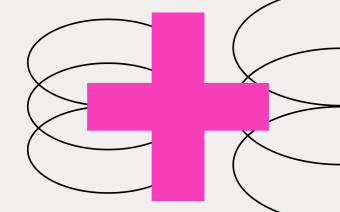какие возможности дает карьера в цифровых проектах цифровизации цифровой трансформации в госсекторе
Какие возможности дает карьера в цифровых проектах цифровизации цифровой трансформации в госсекторе
CNews: «Цифровая экономика» – сегодня одно из самых модных словосочетаний, когда речь заходит о прогрессе и развитии общества. Можно ли в двух словах объяснить, что это такое?
Юрий Грибанов: Цифровая экономика – это управление всеми ресурсами всех хозяйствующих субъектов с помощью интеллектуальных информационных систем – цифровых платформ. Как явление ЦЭ можно считать завершающим этапом глобализации, на котором происходит оцифровка всех мировых ресурсов.
CNews: Ваша трактовка цифровой экономики радикально отличается от общепринятой. Почему?
Юрий Грибанов: Общепринятой трактовки нет, и чтобы это понять, достаточно просто изучить существующие ресурсы хотя бы по той же программе «Цифровая экономика России». План действий есть, план-график тоже есть, есть направления, рабочие группы. Есть понимание к каким целям по каждому из направлений мы должны прийти, программы. Ну, а на уровне отдельных госорганизаций все вообще очень странно. Как-то в сети Facebook я наткнулся на видеоролик, в котором госчиновник сказал буквально следующее: «цифровая экономика не имеет методологии, она имеет только ожидания… гномы, черный экран и в конце мешочек с золотом. Это, вот, цифровая экономика…». Как при таком уровне понимания можно реализовывать какие-то проекты государственного масштаба?! В связи с этим мы дали свое определение ЦЭ и считаем, что оно полноценно описывает процессы происходящие сегодня в мире и РФ в частности.
CNews: Это только в России проблемы с понятийным аппаратом цифровой экономики? Или он не сформирован в принципе?
Юрий Грибанов: Как я уже говорил, цифровая экономика – это прямое следствие глобализации. Что цифровые платформы дают транснациональным корпорациям? Возможность спокойно перешагнуть границы и распространить влияние на любые страны и территории. Больше не важно, где физически расположены серверы и ПО, на которых работает цифровая платформа, через интернет она может дотянуться до любой точки мира. Хрестоматийный пример – компания Uber – обрушившая в свое время рынки таксомоторных услуг во многих странах мира. То же самое происходит в области торговли (eBay, Alibaba), туризма (Booking.com, Аnywayanyday.com), услуг (YouDo). Уберизация распространяется на все сферы жизни и постепенно перебирается из сегмента B2С в B2B, G2C и так далее. Цепочки посредников заменяются цифровыми платформами, иерархии управленцев – сетевыми структурами, взаимодействие внутри которых происходит через те же платформы. Те, кто строит эти новые модели, конечно же понимают суть цифровой экономики, какими бы терминами она не описывалась.
На обывательском же уровне просто происходит подмена понятий, между цифровой экономикой и цифровыми технологиями ставится знак равенства, цифровая трансформация приравнивается к внедрению этих технологий, в головах у людей начинается путаница, которая как в зеркале отражается в понятийном аппарате. Вот определение цифровой экономики из Википедии: «цифровая экономика — экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими электронными товарами и услугами». Иными словами, есть экономика цифровая, связанная с электронным бизнесом, а есть – не цифровая – с электронным бизнесом никак не связанная, реальное производство, сельское хозяйство, например.
Другой пример – определение одного из уважаемых российских интернет-ресурсов: «цифровая экономика – система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий». Сразу же возникают вопросы: а сейчас разве не основана вся наша жизнь на использовании ИКТ? Или «цифровые ИКТ» это что-то особенное? Возможно сейчас мы имеем дело с аналоговыми ИКТ, а потом придем к цифровым? Какой-то театр абсурда!
CNews: Хорошо, с понятийным аппаратом все плохо. А насколько, на ваш взгляд, верны направления, в которых происходит цифровизация в России?
Юрий Грибанов: Без понимания сути цифровой экономики выбирать верные направления невозможно. Необходима методичная разъяснительная работа, необходимо обучение, формирование грамотных кадров на всех уровнях.
В начале 2018 года группа компаний «Наше Агентство Сервиса» создала свой корпоративный университет – «Академию Цифровой Экономики» (АЦЭ), задача которого – синтез знаний в области цифрового управления. Помимо общих программ дополнительного образования АЦЭ разрабатывает индивидуальные программы для конкретных отраслей, регионов или предприятий. Чаще всего разговоры с заказчиками таких программ начинаются примерно так:
«– Как нам внедрить и использовать блокчейн? (вместо слова «блокчейн» можно подставить какой-нибудь другой модный термин – искусственный интеллект, Индустрию 4.0, интернет вещей и т. п.).
– А зачем вам блокчейн? – спрашиваем мы.
– Ну как же, это перспективная цифровая технология, все ведущие компании уже внедряют! Нам тоже нужно начинать цифровую трансформацию.
– А чего вы хотите добиться этой трансформацией?
Ну, а дальше приходится объяснять, что не технологии определяют задачи, а наоборот, что цифровая экономика – это не совокупность каких-то «хайповых» технологий, и что дело, в общем-то, совсем не в технологиях. Иными словами, отсутствие единого глоссария вызывает путаницу и хаос в головах людей, причем порой даже у тех людей, которые должны стоять у руля цифровой трансформации. Для цифровой экономики нужны новые кадры.
CNews: А что такое по-вашему цифровая трансформация и с чего ее нужно начинать?
Юрий Грибанов: Начну с определения: цифровая трансформация – процесс, направленный на оцифровку всех ресурсов на планете Земля (в том числе людских) и создание сетевых платформ взаимодействия, с целью получать гарантированный, заведомо понятный результат на любое управляющее воздействие с использованием средств автоматизации. На практике это означает создание системы сквозных бизнес-процессов, которую можно назвать цифровой экосистемой бизнеса. Это не самая простая тема, и раскрыть ее в рамках одного интервью вряд ли получится. Всем, кому интересно, как организовать переход организации на цифровые рельсы, я рекомендую послушать базовый восьмичасовой курс АЦЭ «Основы цифровой трансформации», в ходе которого мы подробно раскрываем все понятия, связанные с цифровой экономикой, и рассказываем, не только зачем, но и как построить цифровую экосистему бизнеса, и какие инструменты можно и нужно для этого использовать.
Суть цифровизации отдельно взятой организации – это приведение всех ее бизнес-процессов к модели автоматизированного сетевого взаимодействия с контрагентами.
CNews: Можете привести пример?
Юрий Грибанов: Представьте себе, что у вас есть цифровая платформа, подключившись к которой, ваш клиент может разместить заказ, выбрать время и место отгрузки, оплатить его – без участия ваших менеджеров. Поставщики сырья, в свою очередь, подключившись к вашей платформе, будут точно знать, что и в какой момент вам нужно доставить. Идеальная картина – никакого отдела продаж, никакого отдела закупок, никакого затоваривания складов! Но, для того, чтобы все это работало, нужно сделать две вещи. Во-первых, привести все внутренние бизнес-процессы в состояние идеальной гармонии (не должно быть так, чтобы сырья не хватало, или производство было перегружено). Во-вторых, автоматизировать их, описать в виде алгоритмов, и создать удобные шлюзы с внешним миром – то есть внедрить цифровую платформу. Когда вы это сделаете, можете считать, что вы провели цифровую трансформацию. Начинать все нужно, конечно, с оптимизации бизнес-процессов.
Впрочем, слово «провести» в отношении цифровой трансформации несколько условно. Это бесконечный процесс. Алгоритмы внедряются, оцениваются, оптимизируются и снова внедряются. Запускается классический цикл Шухарта-Деминга, только в цифровом варианте.
CNews: И, все-таки, какие технологии делают цифровую экономику возможной?
Юрий Грибанов: Первое – это большие данные, формирующие ваш цифровой профиль и фиксирующие ваши потребности и возможности. Второе – искусственный интеллект, необходимый для автоматизированной обработки этих данных. И, наконец, третий важный камень фундамента цифровой экономики – интернет вещей – коммуникация, связывающая мир воедино. Все три направления активно развиваются, и примеры их практического применения мы видим повседневно.
CNews: Как вы относитесь к идее поощрения частных и местных (например, региональных) инициатив в развитии цифровой экономики? Как вообще должна проходить цифровизация в масштабах страны – сверху или снизу?
Юрий Грибанов: Цифровизация государственной экономики может быть проведена только сверху. А как еще можно реформировать систему управления?
Что касается инициативы снизу… С одной стороны, она, безусловно, полезна. Создаются новые сервисы, люди нарабатывают опыт, осваивают новые технологии. С другой стороны, очевидно, что централизация всех этих разрозненных, реализованных на различных платформах сервисов (а она рано или поздно потребуется) будет стоить очень и очень дорого. Реализация любого проекта сверху, с понятным набором правил и стандартов, всегда обходится дешевле и происходит быстрее. Конкурировать с глобальными игроками и обеспечивать защиту национальных экономических интересов сегодня можно только на государственном уровне.
CNews: Цифровая экономика – это последний экономический уклад?
Юрий Грибанов: Безусловно, нет. Технологии, о которых я только что говорил, в конечном итоге приведут нас к следующему экономическому укладу – экономике знаний. Цифровые платформы оперируют достаточно большими объемами данных, но данные эти фрагментированные. Вот когда ваш цифровой профиль будет полным, а искусственный интеллект научится анализировать информацию из него не хуже человека и сможет предсказывать ваше поведение, мы перейдем к новому укладу. В экономике знаний значительная часть алгоритмов, управляющих вашим взаимодействием со всеми контрагентами, будет генерироваться автоматически, на основе анализа вашего цифрового профиля системами искусственного интеллекта. Звучит несколько фантастично, возможно, но посмотрите вокруг: первые ростки экономики знаний уже видны!
CNews: Что даст человеку и обществу экономика знаний?
Юрий Грибанов: С точки зрения будущего конкретного человека или группы людей, экономика знаний предполагает две очень разных возможности. Первая, благоприятная, состоит в освобождении времени человека для интеллектуальной деятельности. Вторая возможность – это так называемое «цифровое рабство» – состояние, в котором вся жизнь ваша расписана от звонка до звонка, а времени для самосовершенствования просто не остается. Примеры цифрового рабства нам часто показывают в фантастических блокбастерах, и порой весьма правдоподобно!
CNews: И от чего зависит реализация каждой из этих возможностей?
Юрий Грибанов: От целей общества, в котором формируется новый экономический уклад. К чему оно стремится (или то, к чему его ведут), то и получит.
CNews: Вернемся к знаниям, как вы формулируете миссию «Академии Цифровой Экономики»?
Юрий Грибанов: Синтез знаний, готовых к немедленному практическому применению. Мы даем знания всем – от школьников старших классов до государственных служащих. АЦЭ – это организация дополнительного образования, мы не заменяем школу или вуз, наша задача – подготовка практиков, и все наши преподаватели имеют реальный практический опыт внедрения и использования тех технологий, о которых они рассказывают. Курс по блокчейну читает эксперт, много лет проработавший в банковской индустрии и имеющий за плечами не одно успешное ICO. Об искусственном интеллекте рассказывает специалист с опытом внедрения подобных систем на различных производствах. Прикладные курсы по разработке приложений ведут опытнейшие программисты и так далее. Мы убеждены, что практически полезные знания могут дать только практики.
Помимо основных курсов мы разрабатываем индивидуальные программы, учитывающие потребности и особенности тех или иных организаций, но главный принцип остается неизменным – практическая полезность передаваемых знаний.
CNews: Что вы называете «синтезом знаний»?
Юрий Грибанов: Знания рождаются практикой помноженной на научно-исследовательскую работу. Наш основной коллектив – это группа молодых ученых, двое из которых готовятся к получению степени кандидата наук. АЦЭ перерабатывает огромные объемы информации по управлению, экономической теории, информационным технологиям.
CNews: В какой форме проводите обучение?
Юрий Грибанов: Основную ставку мы делаем на дистанционную форму обучения – от лекций и вебинаров, до специализированных курсов продолжительностью до 250 часов. Очное обучение проводим в учебных центрах в Москве и Перми.
Кроме того, АЦЭ организует общественные мероприятия, цель которых – максимально донести наше видение процессов цифровизации и перехода к цифровой экономике до максимально широкой аудитории. Так в 2018 г. мы начинаем серию региональных межотраслевых мероприятий под общим названием «Цифровой регион», которые пройдут в нескольких крупнейших российских городах. Будем рады видеть читателей CNews среди участников, ведь для ИТ-индустрии переход к цифровой модели бизнеса особенно актуален!
Цифровая трансформация госсектора: как покончить с бюрократической рутиной
Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. Изменения затронут 45 министерств и ведомств. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном 28 декабря. Ранее свои предложения по реформе госаппарата изложила Высшая школа экономики в докладе «Ответ на вызовы цифровизации: госуправление, основанное на данных, «штабная» модель управления и структурный маневр в численности госслужащих».
В результате оптимизации, которую проведет правительство, сократят 74 подразделения, выполняющие обеспечивающие функции. Планируется также сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.
«Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (его слова приводятся в сообщении на официальном сайте кабинета министров). Будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное – размывают ответственность.
Реформу госаппарата Правительство анонсировало в ноябре 2020 года. Она нужна для того, чтобы повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития. НИУ ВШЭ в декабре опубликовал доклад, в котором проанализированы возможности и направления административной реформы. Эксперты Вышки полагают, что этот этап административной реформы должен проходить на основе цифровизации и «умной оптимизации» персонала, когда рутинные операции автоматизируются, в том числе с помощью искусственного интеллекта, и одновременно усиливаются компетенции ведомств, связанные с их основным профилем, а эффективность процесса подготовки и принятия решений повышается благодаря использованию больших данных. Аппарат правительства, центральные аппараты министерств и ведомств должны при этом стать мозговыми центрами, think tank.
«В феврале премьер дал поручение об оптимизации численности госслужащих. Этим занялся аппарат правительства, также свои оценки попросили дать Высшую школу экономики. Мы провели масштабный опрос всех 52 федеральных органов власти, которые подчиняются кабинету министров. Отвечали все структурные подразделения, всего – около 2 тысяч человек, нами было проанализировано порядка 26 тысяч функций. По сути, мы дали по каждому госоргану полную выкладку, какое направление перегружено, а какое недогружено», – рассказывает директор Центра развития государственной службы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Николай Клищ.
В целом получилось, что много людей (до 40%) заняты обеспечивающей функцией, например, бюджетированием. А на профильные функции численности как раз не всегда хватает, говорит он. Кроме того, зачастую на работу набираются много специалистов среднего уровня, при этом все равно ощущается нехватка персонала младшего звена и зачастую переизбыток руководителей.
Эксперты оценили, где есть резервы для сокращения и перераспределения численности госслужащих для проведения «умной оптимизации». С учетом вакансий авторы доклада считают возможным сократить 6,8 тысяч госслужащих в федеральных органах исполнительной власти.
«Нельзя сокращать бездумно, лишь бы сократить. Иначе может сложиться ситуация, когда единственные специалисты, которые тянут все на себе, попадут под сокращение, а все начальники – останутся. Может быть и не увольнение, а перераспределение функций между госслужащими. Это позволит им стать содержательнее, лучше и принимать решения», – отмечает Николай Клищ.
Цифровая трансформация, сокращение рутинных операций и переход на выработку решений на основе использования больших данных, – ключевые пункты предложений экспертов Вышки. «Главный вызов цифровой трансформации – смена управленческой парадигмы и переход к управлению, основанному на данных», – говорит старший научный сотрудник Центра анализа деятельности органов исполнительной власти Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Наталья Дмитриева.
Но новые амбициозные цели и серьезнейшие задачи по цифровой трансформации госсектора в России не могут быть реализованы с помощью инструментов и методов, применявшихся в госуправлении в конце 90-х годов прошлого века, кадрами, не обладающими ни знаниями, ни компетенциями для использования современных цифровых и управленческих технологий. Наталья Дмитриева подчеркивает, что сегодня внутри федеральных ведомств очень остро стоит задача усиления аналитической составляющей по большинству исполняемых функций госрегулирования и выработки государственной политики. Кроме того, необходим системный надведомственный механизм для проведения глубокой аналитики разрабатываемых федеральными ведомствами решений и с возможностью формировать независимое и компетентное мнение по содержательным вопросам по всему спектру повестки социально-экономического развития.
Рост располагаемых данных в распоряжении власти должен обеспечиваться развитием экспертно-аналитической, модельной и прогнозной составляющих в “штабах” государственного управления – прежде всего в Аппарате Правительства и центральных аппаратах федеральных министерств. «Во многих департаментах аппарата правительства в настоящий момент отсутствуют возможности для глубокой экспертизы решений из-за перегруженности “текучкой”. В результате аппарат критически зависит от предложений ведомств. Необходимы дополнительные ресурсы и компетенции для подразделений Аппарата, особенно тех, где сосредоточено регулирование и координация нескольких отраслей», – поясняет директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин.
При разработке предложений авторы доклада проанализировали опыт цифровой трансформации, который проводили крупные бизнес-структуры, а также практику реформ в других странах. «Реформирование государственной службы, госаппарата в существенной мере может основываться на том опыте по цифровой трансформации, который есть в российском бизнесе», – считает директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев.
Он отмечает, что опыт бизнеса показывает: успех трансформации принципиальным образом зависит от наличия лидера, наличия штаба, который руководит этими изменениями. К числу других вызовов относятся: необходимость внедрения новой цифровой культуры в госорганы, переход на гибкие формы управления коллективами, перестройка иерархии целей, реализации всех трансформационных проектов в пакете, поскольку отдельные меры не работают.
«Нам нужно срочно повышать конкурентноспособность систем государственного управления, потому что как не посмотришь – очень часто проблема именно в неэффективном госуправлении. И оно неэффективно как раз от того, что сильно погрязло в рутинах и уже не может успевать за жизнью, за новыми данными, за новыми направлениями развития экономики», – резюмирует Юрий Симачев.
Факультет нужных вещей: какие кадры требуются цифровой экономике
Затрагивая все области — от сельского хозяйства, банковского и государственного секторов до сферы услуг, образования и медицины, — процесс внедрения «умных» технологий и решений способствует, с одной стороны, спросу на работников с новыми навыками и, с другой, исчезновению массы рабочих мест.
По данным доклада Jobs of Tomorrow, опубликованного Всемирным экономическим форумом в январе 2020 года, уже к 2022 году цифровизация и автоматизация процессов могут оставить без работы около 75 млн человек во всем мире.
Профессии в зоне риска:
бухгалтеры, нотариусы, кассиры, курьеры, охранники, водители, секретари, фасовщики, сметчики, смотрители в музеях, расшифровщики, турагенты, риелторы, операторы call-центров, некоторые банковские работники, а также занятые на низовых позициях в добывающей и обрабатывающей промышленности, в продуктовом ретейле.
Человека из этих сфер уже сегодня вытесняют развитие роботизированных комплексов, технологий, сервисов и платформ.
Подстраиваться под новые тенденции, вопреки распространенному заблуждению об обратном, придется и представителям многих творческих специальностей: журналистам и копирайтерам (за которых уже в ряде случаев пишут боты), переводчикам, актерам (из-за развития 3D-графики), литературным редакторам, корректорам и монтажерам.
Исчезнуть могут профессии, которые появились не так давно и многим до сих пор кажутся востребованными: это касается, например, верстальщиков сайтов.
Нужно ли нам готовиться к безработному будущему?
Евгений Виноградов, замруководителя проекта «Атлас новых профессий», кандидат физико-математических наук:
В одних отраслях наступающая цифровизация может изменить только структуру занятости, в других — создать много новых мест, в третьих, напротив, существенно уменьшить их количество. Но так или иначе она затронет практически все профессии. Это произойдет из-за развития таких технологий, как:
Способность работать с ними становится базовой грамотностью для профессионалов из самых разных отраслей.
Вот примеры профессий, востребованных в будущем в условиях цифровой трансформации.
Кто: ИТ-медик.
Что делает: разрабатывает базы физиологических данных, управляет ими, создает ПО для лечебного и диагностического оборудования.
Данные в медицине — это бесценный источник будущего долголетия и хорошего здоровья. Здесь стоит говорить о макроданных (например, о том, в каких популяциях и на каких территориях есть склонность к определенному заболеванию) и микроданных (в первую очередь, об исследовании генома и клеточных механизмов). Нужны новые удобные базы и автоматические инструменты их анализа, помогающие поставить диагноз и подобрать лечение.
Кто: архитектор виртуальности.
Что делает: проектирует решения для работы, учебы и отдыха в виртуальной реальности. Разрабатывает софт и оборудование с учетом биологических и психологических параметров пользователя.
Сейчас виртуальная реальность — скорее забавная игрушка, но совсем скоро она повлияет на бизнес-процессы и экономику не меньше, чем в свое время смартфоны. Очередной скачок помимо сферы развлечений ожидает онлайн-торговлю: с помощью технологий виртуальной реальности можно будет сэкономить на аренде помещений. Медиа и туризм изменятся с еще большей скоростью.
Кто: дизайнер киберфизических систем.
Что делает: проектирует киберфизические системы под конкретную задачу. Пользуется искусственными помощниками и консультируется с физиками и металлургами, создавая модель системы в виртуальной реальности.
Киберфизические системы, или CPS, — это краеугольный камень автоматических фабрик Индустрии 4.0. Они объединяют физические объекты, датчики и искусственный интеллект. В отличие от современных роботов, такие системы способны самостоятельно корректировать свое поведение и коммуницировать с другими механизмами ради выполнения задачи. По сути, это промышленный интернет вещей, который резко увеличит возможности производства.
Кто: аналитик кибербезопасности в финансовом секторе.
Что делает: занимается кибербезопасностью, отлично понимает риски, связанные с автоматизацией управления личными финансами, межмашинными транзакциями и облачными решениями, умеет находить уязвимости в смарт-контрактах.
Кибербезопасность становится альфой и омегой нового мира. Одно дело, если злоумышленник прочитает переписку или украдет деньги, и совсем другое, если перехватит управление беспилотным пассажирским самолетом, уронит акции нефтяного гиганта или удалит информацию по вакцине, разрабатываемой для остановки пандемии. Первый вопрос, который должен возникать перед человеком, задумавшим цифровую трансформацию, — как он собирается обеспечить безопасность предприятия.
Компании в разных сферах уже сейчас ощущают необходимость в профессионалах, обладающих цифровыми навыками и умеющих работать в условиях глубинных изменений процессов, технологий и продуктов.
Но спрос на таких специалистов значительно превышает предложение.
По мере перехода к инновационной экономике страны сталкиваются с одной из главных проблем на рынке труда — невозможностью найти достаточное количество кадров с нужной квалификацией, говорится в докладе BCG, «Росатома» и WorldSkills. А по оценкам аналитиков Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), потребность в высококвалифицированных кадрах в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) к 2024 году достигнет 290–300 тыс. человек в год. При этом согласно нацпроектам, к этому же году доля населения, обладающего цифровыми навыками, должна достигнуть 40%.
Кто возьмет на себя эту задачу? Где искать компетентных специалистов?
За рубежом ИТ-компании иногда привлекают способных школьников выпускных классов, обучая их всему уже внутри корпорации. В России государство и бизнес также стараются развивать необходимые навыки еще со школьной скамьи: в рамках нацпроектов открываются ИT-кубы (центры цифрового образования), ИТ-классы, создаются детские и подростковые курсы по программированию и робототехнике, организуются специализированные соревнования. Однако только на этом этапе задача полностью не решается.
ИТ-специалистов готовят и многие университеты. Но, как ранее заявлял РБК руководитель образовательных сервисов «Яндекса» Илья Залесский, пока они не могут в полном объеме удовлетворять потребности цифровой экономики. Основная проблема — устаревшие программы, отсутствие среди преподавателей практикующих специалистов и недостаток практических проектов. На данный момент, добавляют в PwC, наиболее подготовленными к реальным задачам на работе считаются выпускники МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МИФИ, СПбГУ, ИТМО и МФТИ.
Для подготовки квалифицированных кадров и упрощения поиска талантов среди студентов вузы и ИТ-компании открывают совместные кафедры, курсы и лаборатории.
«Среди наших партнеров — «Яндекс», Сбербанк, Mail.ru Group, «МегаФон», Райффайзенбанк, Huawei, «Акронис», 1С, ByteDance и многие другие, — говорит проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексей Малеев. — Так, совместно с Mail.ru Group была запущена программа «Технотрек». Потом мы запустили программу с Huawei по компьютерному зрению, компания поддерживает студентов стипендиями».
Также помогает организация хакатонов (командных соревнований разработчиков), конкурсов для студентов, «воркшопов».
Как заявляет руководитель направления по цифровому производству Prof-IT Group Аркадий Дильман, на базе учебных заведений можно также создавать хабы по определенным группам технологий. За рубежом работа в этой области активно ведется: так, в Германии, например, на базе Рейнско-Вестфальского технического университета в Аахене открыт European 4.0 Transformation Center, в котором ведутся разработки программ цифровой трансформации бизнеса для многих индустриальных компаний. В Кайзерслаутерне на базе местного университета создали фабрику по разработке и производству элементной базы для современных технологических производств. Похожий проект, Arena 2036, развивается Штутгартским университетом.
3. На уровне найма кандидатов с новыми навыками
Что делать выпускникам, чьи знания устаревают сразу после получения диплома? Что, если первое образование было навязано родственниками или неоправдавшимися стереотипами? Что, если некогда успешный специалист остается без работы и долго не может найти новую? В этих вопросах помогает дополнительное образование. Его предлагают как вузы, так и частные компании в классическом и дистанционном режиме. Последний сейчас крайне популярен: по оценкам ИТ-холдинга TalentTech и онлайн-университетов «Нетология» и EdMarket, российский рынок онлайн-образования переживает резкий рост и к концу 2023 года может превысить 60 млрд руб.
«В условиях очень быстрого развития технологий главным качеством становится умение подстраиваться под постоянно меняющиеся условия. У ведущих российских университетов это неплохо получается, но потребности рынка еще больше их возможностей. Поэтому так активно и развиваются онлайн-курсы и образовательные платформы», — добавляет Алексей Малеев.
Популярности образовательным онлайн-ресурсам добавила пандемия COVID-19 с последовавшей самоизоляцией миллионов россиян. Кто-то потерял работу вовсе, другие переосмысливают свою карьеру и начинают больше задумываться о самообразовании или смене специальности.
Сейчас EdTech-проекты предлагают множество учебных программ, позволяющих освоить новую «цифровую» профессию, не поступая в классический университет. Среди учащихся таких сервисов — офисные сотрудники, менеджеры по продажам, водители и многие другие работники, осознавшие, что в скором времени могут стать невостребованными.
Источник: опрос Deloitte, 2019 год.
Какие компетенции нужны сейчас для реализации цифровой трансформации?
Анна Козлова, руководитель Учебного центра SAP:
Успешность цифровой трансформации напрямую зависит от цифровой зрелости команды, ее знаний и навыков.
Главные области, в которых нужно наращивать компетенции:
Однако всегда нужно помнить о том, что бизнес, госсервисы и наша повседневная жизнь трансформируются очень быстро. От развития конкретных технических навыков нужно переходить к умению постоянно переучиваться, приспосабливаться к обстоятельствам, управлять собой в стрессовых ситуациях, а также развивать критическое мышление, эмоциональный и социальный интеллект.
Ситуация с пандемией коронавируса, в которой мы все оказались, показала, что есть навыки, которые во время кризиса могут неожиданно выйти на первый план. В этот раз в фокусе среди прочих оказались психологические навыки, а также умение выстраивать дистанционную работу и дистанционный менеджмент. Бизнес оказался очень зависим от сотрудников, которые могут быстро перестроиться на такой формат работы, реализовать управление коллег на «удаленке», обеспечить им поддержку в период изоляции, смены режима и общей паники.
После этого кризиса многие крупные российские компании, с недоверием относившиеся к облачным технологиям, поймут, что нельзя удержаться на плаву без них. Если твои сотрудники могут по звонку собрать вещи, покинуть офис и расположиться дома, работая так же эффективно во всех системах, без проволочек и проблем с подключением, это — весомое конкурентное преимущество. В ближайшее время люди, умеющие работать в облачных системах и отвечающие за создание подобных инфраструктур, будут так же востребованы, как специалисты на стыке ИТ и медицины.
Повысится спрос на профессионалов в области кибербезопасности, особенно тех, кто специализируется на решениях для удаленного режима работы. Большие данные станут интересны не только с точки зрения анализа, но и перераспределения потоков и предиктивной работы в рамках кризиса, например, в ситуации обеспечения тяжелых больных койко-местами. Пример Италии здесь не очень положительный, но, к большому сожалению, крайне показательный.
Государство и компании после этих событий совершенно точно начнут перестраховываться, поэтому спрос на таких профессионалов будет длительным. Ведь цифровые компетенции — это не просто навык использования диджитал-инструментов, это, скорее, способность создавать новые бизнес-модели, изменять бизнес-процессы и продукты компании.
Умение учиться — центральный навык человека будущего
В ситуации, когда мир меняется настолько стремительно, что можно оказаться невостребованным еще на этапе обучения, казалось бы, востребованной профессии, на центральный план выходит самообразование и умение постоянно осваивать новые навыки. Как говорил китайский инвестор Ли Кайфу, сначала людей будет раздражать необходимость переобучаться, но уже через несколько десятилетий они будут благодарить технологии, которые освободили их от скучного, однообразного труда.
Цифровая трансформация так или иначе призвана облегчить и улучшить нашу жизнь, и если в будущем роботы и отнимут у нас рутинный труд, у людей появится возможность заняться более важными, глобальными задачами и использовать возможности, отличающие нас от машин: творчество, креативность и сопереживание.
Больше информации и новостей о трендах образования в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.