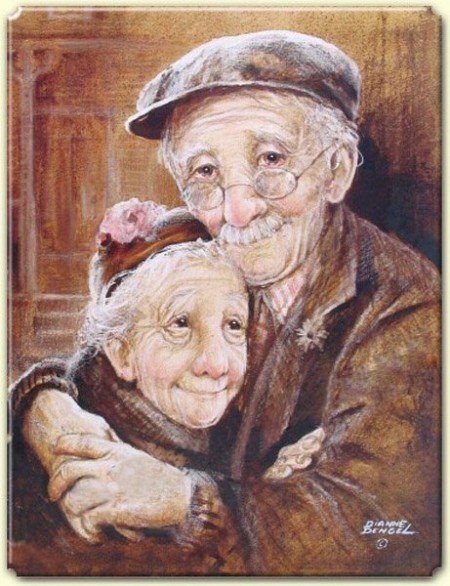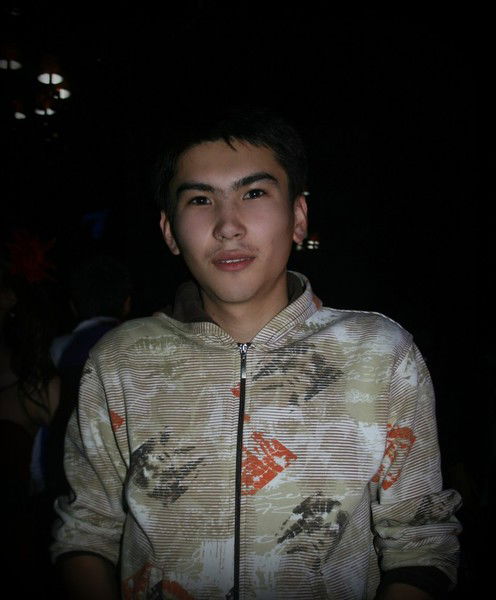Зло победить невозможно потому что борьба со злом это и есть жизнь
Зло победить невозможно потому что борьба со злом это и есть жизнь
Зло нельзя победить, потому что борьба со злом и есть сама жизнь. Дюма! Так ли это? жизнь борьба зло дюма
нет.Если мы мстим врагу, это, скорее всего, ожесточит его, но если мы обращаемся с ним по-доброму, его сердце, возможно, смягчится.
Но «если твой враг голоден, накорми его, если хочет пить, напои его, потому что, поступая так, ты соберёшь ему на голову огненные угли». Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром.
И нельзя расплатится только Аверсом монетки))) с Реверсом они ведь одно целое))) Значит есть Зло, будет и добро иначе мир впадет в серость, а так мы видим его цветным))))
Извините за моветон, но когда начинаешь с чем то бороться, то почти всегда получается по поговорке ( я её чуть, чуть изменю) с чем боролись на то и напоролись.
милая моя если хорошенько подумать то можно победить.я например победил бы, если рядом со мной будет всегда такая красивая леди как вы!))
Наверное так!Зло всегда было есть и будет и всегда идет борьба что бы его победить!Но пока это только мечты потому что зла очень много!
Зло действительно нельзя победить,оно неразрывно связано со своим антиподом добром,ну а жизнь получается,лишь метания между ними.
аббат Фариа – цитаты персонажа
— Неужели мир населен только тиграми и крокодилами?
— Да, но только двуногие тигры и крокодилы куда опаснее всех других.
Я итальянец, но интересуюсь не только лишь моей Италией, ваша Франция тоже большой подарок Господу Богу. Не знаю, как вам, а мне стыдно за вашего Буонапарта и всех Людовиков вместе взятых, разумеется, за исключением Людовика XVI, которому отрубили голову. Вовремя лишиться ненужной вещи — большая удача.
Есть знающие и есть учёные, — одних создаёт память, других — философия.
С сумасшедшими можно говорить на любую тему. Безумие вообще — это выход за благопристойную норму, но не всегда в худшую сторону.
Фильм первый. «Аббат Фариа».
Зло нельзя победить, потому что борьба с ним и есть жизнь.
Фильм третий. «Аз воздам».
Мне нравится, как вы улыбаетесь. Прежде чем заплакать от моих слов, умные люди всегда начинают улыбаться.
Фильм первый. «Аббат Фариа».
— А вы сами, — сказал Фариа, — почему вы не убили тюремщика ножкой от стола, не надели его платья и не попытались бежать?
— Потому, что мне это не пришло в голову, — отвечал Дантес.
— Потому что в вас природой заложено отвращение к убийству: такое отвращение, что вы об этом даже не подумали, — продолжал старик, — в делах простых и дозволенных наши естественные побуждения ведут нас по прямому пути. Тигру, который рождён для пролития крови, — это его дело, его назначение, — нужно только одно: чтобы обоняние дало ему знать о близости добычи. Он тотчас же бросается на неё и разрывает на куски. Это его инстинкт, и он ему повинуется. Но человеку, напротив, кровь претит; не законы общества запрещают нам убийство, а законы природы.
Зло победить невозможно потому что борьба со злом это и есть жизнь
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе; Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Л. Блуа в книге «Le Pèlerin de l’Absolu» говорит: «Souffrir passe, avoir souffert ne passe jamais». Смысл этого замечательного афоризма нужно расширить. Можно преодолеть то, что пережито в опыте жизни, но самый пережитый опыт навеки остается достоянием человека, расширенной реальностью его духовной жизни. Зачеркнуть самый факт испытанного нет никакой возможности. В претворенном и преображенном виде испытанное продолжает существовать. Опыт жизни, борения духа созидают образ человека. Человек не есть окончательно готовое и законченное существо, он образуется и творится в опыте жизни, в испытаниях своей судьбы. Человек есть лишь Божий замысел. Прошлое преодолимо и победимо, оно может быть искуплено и прощено. Этому учит нас христианство. Возможно рождение к новой жизни. Но во всякую новую преображенную жизнь входит испытанное, не исчезает бесследно пережитое. Пережитое страдание может быть преодолено и может наступить радость и блаженство. Но и в новую радость и блаженство таинственно войдет пережитое страдание. Радость и блаженство будут иными, чем до пережитого страдания. Муки сомнения могут быть преодолены и побеждены. Но в обретенную веру таинственно войдет испытанная глубина сомнений. Такая вера будет иного качества, чем вера людей, не знавших сомнений, верующих по наследству, по рождению, по традиции. Человек, много путешествовавший по духовным мирам, много испытавший в своих блужданиях и исканиях, будет иметь другую духовную формацию, чем человек оседлый в своей духовной жизни, не встречавший в своем пути разных миров. Человек связан своей судьбой и не властен уйти от нее. Моя судьба есть всегда особенная, неповторимая, единственная и единая судьба. В опыте моей жизни, в ее испытаниях и исканиях образуется формация моего духа. И в высшие достижения моей духовной жизни, в мою веру, в обретенную мной истину входит испытанное мной, я обогащен своим опытом, хотя бы опыт этот был мучителен и ужасен и я должен был победить разверзшуюся в нем бездну силами не только человеческими. Когда человек приходит к Богу после пережитого опыта богоотступничества, ему ведома бывает такая свобода в обращении к Богу, какой не знает тот, кто через всю жизнь прошел с своей безмятежной традиционной верой, кто послушно жил в наследственном родовом имении. Страдание проходит, но то, что страдание было пережито, не проходит никогда. Пережитый опыт проходит, но то, что он был пережит, не проходит никогда. Эта истина верна и в отношении к отдельному человеку, и в отношении к человечеству, к человеческим обществам.
Мы живем в переходную эпоху духовных кризисов, когда многие странники возвращаются к христианству, к вере отцов, к Церкви, к православию. Возвращаются люди, пережившие опыт новой истории, в котором дошли они до последних пределов. Души конца XIX и начала XX века – трагические души. Это – новые души, из которых нельзя искоренить последствий пережитого ими опыта. Как встречают странников, возвращающихся в Отчий Дом? Слишком часто не так, как встретил Отец блудного сына в евангельской притче. Слишком слышен голос старшего сына, который гордится тем, что всегда оставался при отце и служил ему. А ведь среди странников и скитальцев духа были не только распутные, но были и алчущие и жаждущие правды. И перед лицом Божьим они будут более оправданы, чем гордящиеся своей фарисейской праведностью, чем все неисчислимые христиане – буржуа, чувствующие себя собственниками больших имений в жизни религиозной.
Душа человека стала иной, чем была тогда, когда впервые принимала христианство, когда учили великие учителя церкви и догматизировали вселенские соборы, когда создавали монашество, когда господствовало средневековое теократическое государство и выковывался средневековый и византийский тип религиозности. Это изменение и уточнение психеи совершилось прежде всего под влиянием таинственного и часто незримого, глубинного действия самого христианства. Христианство изнутри побеждало варварство и грубость души, образовывало человека.
На мучения и вопрошания Ницше нет ответа в катехизисах и поучениях старцев, они требуют творческого восполнения в христианстве. Все наше русское религиозно-философское движение последних десятилетий прошло через опыт, который неизгладим и который не может не обогащать христианства. И это не связано с степенью достижения личного совершенства или святости. Между тем как реакционная церковность (не Церковь) противится творческой религиозно-философской мысли, отрицает ее. Традиционно настроенный православный мир все еще не сознает, что христианство перестает быть религией простецов по преимуществу и принуждено обратиться к более сложным душам и раскрыть более сложную духовность.
Те, которые познали безмерную свободу духа и в свободе вернулись к христианской вере, те не могут зачеркнуть и изгладить из своей души этот опыт, не могут объявить его небывшим. Опыт свободы с его внутренней диалектикой, с трагической судьбой, которую он несет с собой, есть опыт особого качества внутри христианства. Кто на путях свободы, имманентно преодолел соблазны и искушения гуманизма, изобличал пустоту человекобожества, не может уже никогда, на веки веков отказаться от той свободы, которая провела его к Богу, от того имманентного опыта, который освободил его от диавола. Спор о религиозной свободе нельзя ставить на отвлеченную почву и обсуждать его статически. Я через свободу, через имманентное изживание путей свободы пришел к Христу. Моя христианская вера не есть вера бытовая, родовая, традиционно полученная по наследству, она есть вера, добытая мучительным опытом жизни, изнутри, от свободы. Я не знаю принуждения в своей религиозной жизни, не знаю опыта авторитарной веры, авторитарной религиозности. Можно ли возражать против этого факта догматическими формулами или отвлеченными богословскими теориями? Такой способ аргументации всегда будет для меня жизненно неубедительным.
Свобода привела меня ко Христу, и я не знаю других путей ко Христу, кроме свободы. Я не один в этом опыте. Те, которые ушли от христианства авторитета, могут вернуться лишь к христианству свободы. Это есть опытная, динамическая истина жизни, и ее совсем не нужно связывать с тем или иным пониманием отношения между свободой и благодатью. Это – вопрос совсем другого порядка. Пусть благодать привела меня к вере, но благодать эта пережита мной, как свобода. Те, которые через свободу пришли к христианству, несут с собой в христианство особый дух свободы. Их христианство не есть уже бытовое, наследственно-родовое христианство, их христианство неизбежно более духовное христианство, в духе рожденное, а не в плоти и крови. Опыт свободы духа неизгладим, хотя своеволие может и должно быть преодолено. Люди авторитарного, наследственного типа религиозности всегда будут плохо понимать людей, пришедших к религии через свободу, через имманентное изживание трагического опыта жизни. Религиозная жизнь проходит через три типические стадии: 1) через стадию объективную, народно-коллективную, природно-социальную; 2) через стадию субъективную, индивидуалистически-личную, душевно-духовную и 3) на вершине подымается до преодоления противоположности между объективным и субъективным и достигает высшей духовности. Появление христианства в мире предполагало переход от объективно-народной религии к религии субъективно-индивидуалистической. Но в дальнейшем христианство осело и кристаллизовалось, как религия объективно-народная, социально-коллективистическая. Ныне переживает кризис именно эта форма христианства. Религиозная жизнь проходит через субъективно-индивидуалистический фазис, который не может быть последним и должен быть тоже преодолен.
Можно ли уничтожить зло?
(Из книги «Добро и зло в нашей жизни. Вопросы и ответы»)
Конечно, в каждом конкретном случае зло уничтожить можно. Например, вылечить человека, уничтожив его болезнь. Или поймать и изолировать маньяка-убийцу. Или конфисковать у чиновника украденные государственные деньги. Или восстановить вырубленный лес. Это всё понятно. Вопрос в другом: можно ли уничтожить зло в принципе, раз и навсегда, полностью и безвозвратно. Вот этот вопрос уже интересный.
В ответах на него наиболее популярны две крайние точки зрения.
Согласно первой из них, которую можно назвать «активной», убрать зло из мира не только можно, но даже не очень сложно. Достаточно просто уничтожить всех людей, погрязших во зле, а также плоды их деятельности. И проблема будет решена! Конечно, убивать людей нехорошо, но ради такой-то высокой цели — можно. Зато потом наступит вечный рай на Земле, а потомки будут прославлять нас в веках.
Недостатки такого подхода очевидны.
Во-первых, где гарантия того, что бороться мы будем именно с истинным злом, а не с нашими зыбкими представлениями о нём. Например, можно ошибочно объявить злом другую религию, другую расу, другую страну, другие обычаи, частную собственность и т.д. И тогда реальным результатом нашей борьбы будет всего лишь уничтожение людей, разрушение нормальной жизни, рост вражды, ненависти, унижения и т.д. То есть настоящее зло (разрушение гармонии мира) не только не будет уничтожено, наоборот — получит поддержку и разрастётся вширь и вглубь. Миру будет нанесена глубокая и опасная рана.
Во-вторых, даже если мы правильно будем понимать, что такое настоящее зло, где гарантия того, что после нашего «уничтожения» оно не возникнет вновь и вновь? Ведь люди имеют полную свободу выбора между добром и злом, и проконтролировать полностью поведение каждого человека просто невозможно. Не убивать же, в самом деле, человека за малейший шажок в сторону зла. Так ведь и всех перебить можно.
Вторая точка зрения, которую можно назвать «пассивной», прямо противоположна первой. Её сторонники утверждают, что зло можно уничтожить только вместе с человеком, что зло неотделимо от человека, обязательно присуще человеку. Поэтому бороться со злом — это всё равно, что бороться с человеком. И, следовательно, со злом надо смириться, научиться бесконфликтно жить с ним и даже иногда использовать его в своих целях. А людям надо запрещать бороться со злом, их необходимо призывать к терпимости. И тогда наступят на Земле мир и всеобщее благоденствие. Воруют? Так все и всегда воровали и будут воровать. Врут? Так враньё органично присуще человеку. Воюют? Так агрессия у человека в крови. Процветает разврат? Так это основной инстинкт человека.
Такая позиция опять же приводит к торжеству и укреплению зла. Любое ослабление борьбы со злом, тем более полный отказ от борьбы, приводят к расползанию зла, к проникновению его во все поры общества, в умы всех людей. Правда, зло разрастается не так быстро, как в первом случае, но зато внедряется в мир основательно, надёжно, прочно. И победить его, уничтожить его, даже ослабить его становится крайне сложно. Если в первом случае мир получает глубокую рану, то здесь он начинает медленно, но уверенно гнить, разлагаться, разрушаться. Можно сказать, что это не острая, а хроническая болезнь мира, что никак не делает её менее опасной. И для человека она не менее вредна: мы перестаём различать добро и зло, мы не укрепляем гармонию мира и не боремся с её разрушением, то есть не выполняем того главного, ради чего нам дана жизнь.
Интересно, что в реальности «активный» и «пассивный» подходы не только сменяют друг друга, но порой и мирно сосуществуют в одном времени. Например, для своей страны предлагается «пассивный» подход, а для всех остальных стран — «активный». Или для «своих» людей — «пассивный», а для остальных — «активный». Так что мир разрушается острыми и хроническими болезнями как вместе, так и по очереди.
И какой же вывод из всего сказанного? Неужели зло неуничтожимо, и будет разрастаться, что бы мы ни делали, какой бы путь ни выбрали? Неужели от нас ничего не зависит? Нет, конечно же, всё не так плохо. Просто не надо бросаться в крайности, которые, как известно, всегда выгодны только злу.
Да, мы не можем очистить мир от зла полностью и навсегда, так как это противоречит самой природе мира. Пока у человека есть свобода выбора, данная Богом, зло может возникать снова и снова. А только такая свобода даёт нам шанс безграничного развития, приближения к Творцу. И только Бог может решить, когда придёт срок для полного уничтожения мирового зла. Пока же зло настолько сильно, что победить его очень непросто даже силами всего человечества. Но из этого вовсе не следует, что со злом не надо бороться вообще.
Человек по своей природе — это добро, как и любое творение Бога. Зло для него — враг, угроза, поработитель, паразит. Чем меньше зла в мире, тем лучше всем частям мира, в том числе и человеку. И в идеале зла не должно быть вовсе, так как оно не нужно ни миру в целом, ни его частям. Наша совесть постоянно напоминает нам об этом. Никакой грех или порок не может считаться органично присущим человеку. Избавление от любого из них — это благо, очищение, духовный рост человека. А закладывать в основу общества грехи и пороки людей — это страшное преступление, служение злу.
Однако надо всегда помнить, что человек несовершенен, он может ошибаться. Он может поддаться соблазнам сил зла, уговорам и угрозам служителей зла. И сделать неправильный выбор — выбор в сторону разрушения гармонии мира. Поэтому задача состоит в том, чтобы помочь человеку не ошибиться, защитить его от давления и соблазнов, вовремя остановить его на неправильном пути. Тем самым можно лишить зло поддержки, помешать его воспроизводству, не дать ему завербовать новых служителей. А без этого оно начнёт слабеть, чахнуть, вырождаться.
Почему добро не побеждает зло
Причины достаточно просты.
Первая.
Выжить должен сильнейший.
Представим на мгновение, что все люди имеют одинаковые способности, одинаковые потребности, одинаковые духовные качества. Может ли такое общество развиваться? Разумеется, что нет. Потому что двигателем развития является преодоление противоречий. Более того, любая информация у нас основываются на противопоставлении. Как, не зная холода, мы не узнаем тепла, не зная горького – не узнаем сладкого, точно так же, не зная горя, мы не будем знать радости, не зная смерти – не узнаем жизни. Закон единства и борьбы противоположностей обеспечивает развитие.
Однако философии достаточно. Нужно твёрдо себе уяснить, что мы просто обречены всегда и везде сталкиваться со злодеями и подонками, не говоря уж о бюрократах и бездушных лицемерах. Не будь их, мы вымрем, как динозавры. Которым для развития, видимо, не хватило противоборствующей силы.
Что же получается, что зло нам столь же жизненно важно, сколь и добро?
«Хорошими делами прославиться нельзя!» – утверждает довольно симпатичная старушка из известного мультфильма. «Не делай добра – не получишь зла», «навязанное добро есть зло», «любовь зла – полюбишь и козла», «нет худа без добра» – народная мудрость достаточно терпимо относится к нашему постоянному контакту со злом.
Хотя и не однозначно: «Добро должно быть с кулаками»? И, наконец, «что русскому хорошо, то немцу смерть»?
Плавно перешли ко второй причине.
А кто устанавливает критерии добра и зла?
Мы сами их и устанавливаем. А главное – легко их меняем на противоположные даже в одном поколении.
Царь Николай II cначала был помазанником Божьим, потом Николаем Кровавым и, наконец, стал канонизированным, то есть причисленным к лику святых. Павлик Морозов сначала был героем-пионером, затем доносчиком на родного отца, наконец, стал жертвой сурового времени. Вчерашние спекулянты-уголовники сегодня стали процветающими бизнесменами. Примеров не счесть.
Более того, если наша поговорка «закон, что дышло, куда повернёшь, туда и вышло» оказывается верной, и мы часто живём и не по законам, а по понятиям, тогда что говорить о критериях добра и зла? Каждый устанавливает их сам для себя. У каждого своя правда.
Тогда понятно, почему и выборы не честные, и суды зависимые, и коррупция непобедима, и вертикаль власти создана для самой власти, а не для людей.
Неужели всё так печально?
Если бы это было так, то не стоило «браться за перо». Разоблачителей зла у нас в избытке. И в их первые ряды становится как раз тот, кто сам не соблюдают законы и заповеди. Не зря существует поговорка: «На воре шапка горит».
Тот, кто дочитал до этого места, уж точно не годится в обличители зла, а только сократит свою жизнь не нужным брюзжанием или, что ещё хуже, борьбой со злом. Потому что для этой деятельности нужны совершенно другие люди, которые не читают подобные опусы. Они заняты подковёрной борьбой, разоблачениями, интригами. Наша с вами функция – созидание, а разрушители (борцы со злом) найдутся без нас. Мы ведь хотим не только выжить, но и жить. Борьба с ветряными мельницами что может дать? Ничего, кроме ушибов и увечий. Это вовсе не значит, что «наша хата с краю». Активная позиция как раз заключается не в борьбе (разрушении), а в строительстве (созидании). Ведь именно потому мы все разные, природа позаботилась об этом. И выживет сильнейший – это тот, кто её адекватно понимает и занимает соответствующее место в жизни.
Такое место советует занять Иисус Христос, когда изрекает свою метафорическую и мало кому понятную фразу: «Ударили по одной щеке – подставь другую».
Если «зло», (или то, что понимается под этим словом) неискоренимо, то нужно знать, что борьба с ним возможна и способом «непротивления злу насилием». Индусы к этой истине пришли вековой практикой через свои религии.
Когда получил «по одной щеке», то задумайся, почему это произошло. Почему твои критерии добра и зла оказались другими, нежели у «партнёра» (модное слово). Какую правду вы поняли по разному? «Подставь другую щеку, а прямым – в челюсть» – такой метод борьбы со злом ведёт в тупик по причине только что разобранной: мы сами устанавливаем критерии добра и зла и легко их меняем на противоположные.
Абсолютное добро олицетворяют собой маленькие дети. Их души чисты что у ангелов. Природа, как генератор созидания, этим самым демонстрирует вечное обновление со знаком плюс. Видимо, информация космоса (Бог) ведёт нас по пути развития именно таким образом: борьба добра и зла рождает новый уровень нравственности.