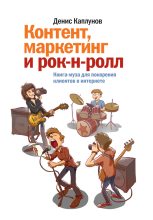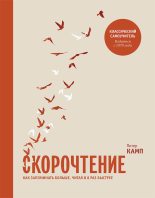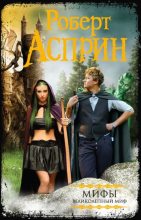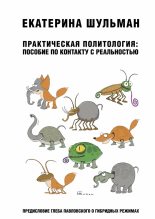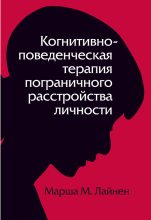Императрица объявила манифестом что она взошла на отцовский престол принадлежавший ей
Императрица объявила манифестом что она взошла на отцовский престол принадлежавший ей
В день революции новая императрица объявила манифестом, что она взошла на отцовский престол, принадлежащий ей как законной наследнице, и что она приказала арестовать похитителей ее власти. Три дня спустя был обнародован другой манифест, который должен был доказать ее неоспоримое право на престол. В нем было сказано, что так как принцесса Анна и супруг ее не имели никакого права на русский престол, то они будут отправлены со всем семейством в Германию. Их отправили из Петербурга со всеми слугами под конвоем гвардейцев, состоявших под командою генерала Салтыкова (бывшего обер-полицмейстером при императрице Анне). Они доехали только до Риги, где их арестовали. Сначала их поместили на несколько месяцев в крепость. Затем их перевезли в Дюнамюндский форт, и, наконец, вместо того, чтобы дозволить им возвратиться в Германию, их привезли обратно в Россию. Место их заточения было часто переменяемо, и великая княгиня умерла в родах в марте 1746 г. Тело ее было перевезено в Петербург и предано земле в монастыре св. Александра Невского.
Неизвестно, где именно содержатся теперь принц Антон-Ульрих и юный император. Иные говорят, что отец и сын находятся в одном и том же месте и что молодому принцу дают, по повелению двора, хорошее воспитание. Другие утверждают, что царевич Иоанн разлучен со своим отцом и находится в монастыре, где его воспитывают довольно плохо.
По всему, что я сказал о принцессе Анне, будет не трудно определить ее характер. Она была чрезвычайно капризна, вспыльчива, не любила труда, была нерешительна в мелочах, как и в самых важных делах. Она очень походила характером на своего отца, герцога Карла Леопольда Мекленбургского, с тою только разницею, что она не была расположена к жестокости. В год своего регентства она правила с большою кротостью. Она любила делать добро, не умея делать его кстати. Фаворитка ее пользовалась ее полным доверием и распоряжалась ее образом жизни по своему усмотрению. Министров своих и умных людей она вовсе не слушала, наконец, она не имела ни одного качества, необходимого для управления столь большой империей в смутное время. У ней был всегда грустный и унылый вид, что могло быть следствием тех огорчений, которые она испытала со стороны герцога Курляндского во время царствования императрицы Анны. Впрочем, она была очень хороша собою, прекрасно сложена и стройна; она свободно говорила на нескольких языках.
Что же касается до принца, супруга ее, то он обладает наилучшим сердцем и прекраснейшим характером в мире, соединенными с редким мужеством и неустрашимостью в военном деле, но он чрез меру робок и застенчив в государственных делах. Он приехал слишком молодым в Россию, где перенес тысячу огорчений со стороны герцога Курляндского, который не любил его и часто обращался с ним весьма жестко. Эта ненависть герцога происходила от того, что он считал его единственным препятствием к возвышению своего дома, так как, сделавшись герцогом Курляндским, он возымел намерение выдать принцессу Анну за своего старшего сына и возвести этим браком свое потомство на русский престол; но, несмотря на свое влияние на императрицу, он никогда не мог убедить ее согласиться на это. (…)
Прежде чем я стану говорить о прочих событиях, случившихся после революции, скажу сначала о том, что касается до арестованных вельмож.
Была назначена комиссия, составленная из нескольких сенаторов и других русских сановников, которые должны были допросить их и произвести над ними суд. Они были обвинены во многих преступлениях. Графа Остермана обвинили, между прочим, в том, что он способствовал своими интригами избранию императрицы Анны и уничтожил завещание императрицы Екатерины и т. д. Графа Миниха обвинили в том, будто он сказал солдатам, арестуя герцога Курляндского, что это делалось с целью возвести на престол царевну Елизавету. Тот и другой легко могли бы доказать, что обвинения эти были ложные, но оправдания их не были приняты.
В сущности, преступление всех арестованных лиц состояло в том, что они не понравились новой императрице и слишком хорошо служили императрице Анне. Сверх того, Елизавета обещала тем, которые помогли ей взойти на престол, что она освободит их от притеснения иностранцев, поэтому пришлось осудить тех, кто занимал высшие должности.
Согласно определению, граф Остерман был приговорен к колесованию заживо, фельдмаршал Миних – к четвертованию, графа Головкина, графа Левенвольде и барона Менгдена присудили к отсечению головы. Императрица даровала им всем жизнь; их сослали в разные места Сибири. Граф Остерман получил помилование лишь на эшафоте, когда ему уже положили голову на плаху.
Двор издал по этому случаю манифест, где были перечислены все преступления, в которых они обвинялись.
Миних, Остерман и Левенвольде перенесли свое несчастье с твердостью; не то было с другими. Все поместья сосланных, за исключением тех, которые жены их принесли за собою в приданое, были конфискованы в пользу двора, который наградил ими других лиц. Жены осужденных получили позволение поселиться в своих поместьях и не следовать за мужьями в ссылку, но ни одна из них не захотела воспользоваться этою милостью.
Из «Замечаний на записки Манштейна» Э. МинихаПричины, побудившие Елизавету Петровну к вступлению на престол, и меры, для того принятые
Мысль о бракосочетании царевны Елисаветы Петровны с принцем Людвигом Брауншвейгским, братом Правительницы, была, так сказать, мгновенная и немедленно преданная забвению. Не токмо не принуждали царевну к сему браку, но даже никогда не предлагали ей об оном явно. Впрочем, если бы и согласилась она на супружество сие, прекословившее пользам ее, то и тогда
В заданиях А1 – А14 выберите один ответ?
В заданиях А1 – А14 выберите один ответ.
А 1. События какого периода отражает приведённый перечень : «тушинский вор», Козьма Минин, создание «Совета всей земли»?
Опричнины Смуты феодальной раздробленности дворцовых переворотов А2.
Что стало главным итогом смутного времени?
Получение Россией выхода к Балтийскому морю прекращение династии Рюриковичей прекращение феодальной раздробленности сохранение независимости страны А3.
О чём свидетельствовало развитие мелкотоварного производства в XVII веке?
Об упадке торговли о превращении России в передовую промышленную державу о развитии капиталистических отношений о начале промышленного переворота А4.
Как называется система устойчивых хозяйственных связей и обмена товарами между различными частями страны?
Мелкотоварным хозяйством капитализмом протекционизмом всероссийским рынком А5.
Об усилении чьей роли свидетельствовало ослабление Боярской думы во второй половине XVII века?
Царя Земских соборов Приказов Церкви А 6.
О чём идёт речь в отрывке из документа?
Устроен тот приказ при нынешнем царе, для того, чтобы его царская мысль и дела исполнялися все по его хотению, а бояре и думные люди о том ни о чём не ведали.
О Приказе тайных дел о Приказе Большого дворца о Челобитном приказе о Поместном приказе А7.
Руководитель Запорожской Сечи в XVII в.
: гетман тысяцкий гайдук воевода А8.
Какое понятие возникло в XVIII веке в результате проведения военной реформы?
Мушкетёр кирасир рекрут стрелец А9.
Какое утверждение верно?
«Табель о рангах» вводила местничество подушной податью в XVIII веке облагались все подданные государства приписными называли квалифицированных вольнонаёмных работников мануфактур в XVIII веке была ликвидирована разница между вотчиной и поместьем А10.
Причиной создания Синода явилось стремление Петра I : создать сословно—представительный орган власти улучшить управление промышленностью улучшить управление армией подчинить церковь государству А11.
О первых днях чьего царствования идёт речь в отрывке из документа?
Новая императрица объявила манифестом, что она взошла на отцовский престол, принадлежавший ей как законной наследнице, и что она приказала арестовать похитителей её власти.
Три дня спустя был обнародован другой манифест.
В нём было сказано, что так как принцесса Анна и её супруг не имели никакого права на русский престол, то они будут отправлены со всем семейством в Германию.
Екатерины I Екатерины II Елизаветы I Софьи Алексеевны А12.
Что характерно для экономического развития России во второй половине XVIII века?
Завершение промышленного переворота укрепление феодально – крепостнической системы начало разложения феодально – крепостнической системы уменьшение налогового гнёта А13.
Чему способствовала политика Екатерины II по отношению к дворянству?
Ограничению помещичьего землевладения ослаблению гнёта помещиков над крестьянами увеличению служебных обязанностей дворянства превращению дворянства в привилегированный слой российского общества А14.
Крымский полуостров вошёл в состав Российской империи в результате : семилетней войны прутского похода азовского похода русско – турецкой войны В заданиях А15 * – А17 * выберите несколько ответов * А15.
Какое событие произошло в правление Петра I?
Что относится к памятникам культуры XVII века?
Покровский собор в Москве Сказка о Ерше Ершовиче Новоиерусалимский мужской монастырь икона «Спас нерукотворный» Симона Ушакова бюст М.
В. Ломоносова Задание В.
В1. Установите хронологическую последовательность событий А.
Принятие «Табели о рангах» Б.
Реформа Патриарха Никона В.
Воцарение Романовых Г.
Начало Северной войны В2.
Установить соответствие между элементами левого и правого столбиков.
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
Императрица объявила манифестом что она взошла на отцовский престол принадлежавший ей
ЗАПИСКИ О РОССИИ ГЕНЕРАЛА МАНШТЕЙНА
Манштейн, Христофор Герман (р. 1711 ум. 1757 г.), сын генерал-поручика, сподвижника Петра Великого, полковник русской службы, мужественно сражавшийся под знаменами фельдмаршала Миниха и еще с большим мужеством арестовавший герцога Бирона, — один из вождей войска Фридриха Великого, павший смертью героя на поле битвы, — Манштейн оставил по себе Записки о России. Эти Записки составляют один из драгоценнейших источников по истории нашего отечества, за время царствований Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, регентства Бирона, правления Анны Леопольдовны и начала царствования Елисаветы Петровны.
Подлинная рукопись Записок, писанная рукою самого Манштейна, принадлежит Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Константину Николаевичу и хранится в отделе рукописей в библиотеке Его Высочества, во дворце города Павловска.
Эта рукопись, на французском языке, писана на толстой белой бумаге, в лист, мелким, весьма четким почерком, в конце 1740-х годов, рукою Манштейна, со множеством, в особенности в начале рукописи, помарок, вставок и дополнений, писанных тем же почерком, но уже позднейшими чернилами; есть страницы, почти целиком зачеркнутые и вместо них — на особо приклеенных листах и лоскутках — помещены рассказы о тех же событиях, но уже, более или менее, в измененной редакции; все ссылки на вставки и дополнения сделаны автором записок с большою тщательностью.
Весь манускрипт состоит из двух частей, переплетенных в один том; в простой картон, на корешке которого выбито: «Memoires de Russie». На втором полулисте серой бумаги, которыми начинается рукопись, надпись неизвестно чьей руки: «Manuscrit original et autographe des Memoires du General Manstein». Самые Записки имеют заглавие руки автора: «Memoires de Russie. Premiere partie, par M-r de Manstein». Последнее слово зачеркнуто и тут же карандашом приписано: «par le General Manstein». Помета страниц начинается с следующего полулиста; первая часть занимает 211 страниц и оканчивается смертью императрицы Анны Иоанновны; далее следуют вторая часть с заголовком над текстом: «Memoires de Russie. Seconde partie»; стр. 1—118, а затем, на стр. 119–173, помещено, под заглавием: «Supplement aux Memoires de Russie», общее обозрение России в политическом, статистическом, финансовом и прочих отношениях, — обозрение, составленное и написанное также рукою Манштейна.
Записки Манштейна пользуются в исторической литературе большим авторитетом. Профессор К. Н. Бестужев-Рюмин, в обзоре источников истории России, называет эти Записки «знаменитыми» и положительно свидетельствует, что, «кроме Манштейна, для царствования Анны Иоанновны нет ни одного иностранца, на которого можно было бы положиться»[1]. Историки и исследователи — русские и иностранные — в своих трудах о России первой половины XVIII века постоянно ссылаются на Записки Манштейна, как на основной источник.
Хорошо зная русский язык и постоянно вращаясь в среде лиц, как власть имевших в главе русской армии, так и пользовавшихся значением при дворе, — Манштейн многое видел, многое слышал, знал всех именитейших представителей власти в России за описываемое им время (1727–1744) и, кроме замечательно добросовестного изложения событий, оставил ряд ярких характеристик своих современников и современниц, государственных деятелей в России XVIII века.
Интерес и значение Записок Манштейна всего лучше подтверждается тем, что это сочинение появилось тотчас после своего выхода в печати (1770 г.) на всех главнейших языках (английском — 1770 года, немецком и французском 1771 г.)[2].
На русском языке они выдержали три издания: два — в 1810 г., одно — в 1823 г. Из русских переводов более полный издан в Дерпте, в 1810 г., профессором Григорием Глинка, под следующим заглавием: «Манштейновы современныя Записки о России в историческом, политическом и военнодейственном отношениях. Перевод с французского подлинника», Дерпт, 1810, в 8-ю д. (ч. I, стр. VIII и 425; ч. II, стр. 291).
Хотя Глинка не указывает, где находится подлинник, и вообще ни одним словом не знакомит с его внешностью и проч., тем не менее наше исследование приводит к тому заключению, что Глинка сделал перевод именно с того самого манускрипта Записок Манштейна, который хранится в библиотеке дворца в Павловске. Переводчик тем удобнее мог это сделать, что прежде поступления на службу в Дерпт, находился в числе кавалеров, воспитателей Великого Князя Николая Павловича, и в начале текущего столетия довольно часто проживал при дворе императрицы Марии Федоровны в Павловске.
Но, исполнив свой перевод с подлинной рукописи, Глинка не счел нужным останавливаться на упомянутых выше вставках и дополнениях того же Манштейна к его Запискам, притом весьма многие места перевел не вполне точно, либо почему-нибудь изменил, другие, хотя и незначительные по объему, места опустил, наконец сделал несколько промахов, не разобрав перемаранные автором слова, или не отыскав надлежащих вставок.
Тем не менее перевод Записок Манштейна изд. Глинки сослужил добрую службу: в течение полустолетия эта книга, несмотря на свой весьма устарелый, тяжелый язык, дурную печать и бумагу, доставляла русскому обществу весьма интересное чтение. Те немногие обзоры и очерки, которые знакомили русское общество, до конца пятидесятых годов текущего столетия, с историческими событиями времени ближайших преемников Петра Великого, каковы труды А. Вейдемейера и друг., были главным образом основаны на Записках Манштейна. Ныне издание Глинки сделалось библиографическою редкостью. Что касается до прочих двух русских переводов (Москва, 1810 и 1823 гг.), то они как по изложению, по множеству пропусков, так и по крайней неряшливости издания не имеют никакого значения, тем более, что сделаны не с подлинной рукописи Манштейна, а с французских тиснений.
С благосклонного разрешения Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Константина Николаевича, представляем совершенно полный перевод Записок о России 1727–1744 гг. с подлинной рукописи их составителя, Манштейна, со всеми вставками и дополнениями автора. Мы не позволили себе исправить ошибки Манштейна. Все, как важные, так и мелкие погрешности составителя Записок, отнюдь не исправляя в тексте перевода, оговариваем в приложении, в особых примечаниях; все слова, строки и целые страницы, которые автор, зачеркнув, заменил новыми, мы также помещаем в приложениях, в переводе, с указанием на те страницы и строки текста нашего издания, к которым они относятся. Что касается до текста Записок, то он в нашем переводе является дословно точным относительно текста, — окончательно обработанного Манштейном. Заголовки переведены также дословно.
Сравнение подлинника рукописи текста Записок Манштейна, принадлежащего Августейшему владельцу г. Павловска, с теми копиями и переводами, которые изданы за границей в прошлом и в нынешнем столетиях и вообще критическое обозрение всех изданий этих записок составляет предмет особой статьи, которая помещена в конце нашего издания всего перевода этого труда. Равным образом в приложениях помещаем мы новые биографические сведения об авторе Записок и систематическое оглавление.
Введение. — Начало царствования Петра II. — Могущество Меншикова. — Императрица Евдокия освобождена из заточения. — Обручение императора с княжною Меншиковою. — Отъезд герцога Голштейнского. — Интриги против Меншикова. — Падение Меншикова. — Происхождение Меншикова. — Изображение Меншикова. — Князья Долгорукие заступают место Меншикова. — Отъезд императора в Москву для коронования.
Русская История, соч. К. Н. Бестужева-Рюмина. Спб., изд. 1872 г., т. I, стр. 201.
Императрица объявила манифестом что она взошла на отцовский престол принадлежавший ей
Лесток не забыл уведомить об этом всех, принадлежавших к их партии. В полночь царевна, сопровождаемая Воронцовым и Лестоком, отправилась в казармы гренадер Преображенского полка; 30 человек этой роты были в заговоре и собрали до 300 унтер-офицеров и солдат. Царевна объявила им в немногих словах свое намерение и требовала их помощи; все согласились жертвовать собою для нее. Первым делом их было арестовать ночевавшего в казармах гренадерского офицера, по имени Гревс, шотландца по происхождению; после этого они присягнули царевне на подданство; она приняла над ними начальство и пошла прямо к Зимнему дворцу; она вошла, без малейшего сопротивления, с частию сопровождавших ее лиц в комнаты, занимаемые караулом, и объявила офицерам причину своего прихода; они не оказали никакого сопротивления и допустили ее действовать. У всех дверей и у всех выходов были поставлены часовые. Лесток и Воронцов вошли с отрядом гренадер в покои великой княгини и арестовали ее с ее супругом, детьми и фавориткой, жившей рядом.
Лишь только это дело было окончено, несколько отрядов было послано арестовать фельдмаршала Миниха, сына его, обер-гофмейстера великой княгини, графа Остермана, графа Головкина, графа Левенвольде, обер-гофмаршала двора, барона Менгдена и некоторых других, менее значительных лиц.
Все арестованные были отведены во дворец царевны. Она послала Лестока к фельдмаршалу Ласи предупредить его о том, что она совершила, и объявить, что ему нечего бояться, и притом приказала немедленно явиться к ней Сенат и все сколько-нибудь знатные лица империи были также созваны во дворец новой императрицы. На рассвете все войска были собраны около ее дома, где им объявили, что царевна Елисавета вступила на отцовский престол, и привели их к присяге на подданство. Никто не сказал ни слова и все было тихо как и прежде. В тот же день императрица оставила дворец, в котором она жила до тех пор, и заняла покои в императорском дворце.
Когда совершилась революция герцога Курляндского, все были чрезвычайно рады: на улицах раздавались одни только крики восторга; теперь же было не то: все смотрели грустными и убитыми, каждый боялся за себя или за кого-нибудь из своего семейства, и все начали дышать свободнее только по прошествии нескольких дней.
Все, читающие об этом событии, не могут не удивиться ужасным ошибкам, сделанным с обеих сторон.
Если бы великая княгиня не была совершенно ослеплена, то дело это не должно было удасться. Я говорил выше, что она получила несколько извещений даже из-за границы; граф Остерман, приказав однажды снести себя к ней, уведомил ее о тайных совещаниях де ла Шетарди с Лестоком; вместо того чтобы отвечать ему на то, что он говорил, она велела показать ему новое платье, заказанное ею для императора.
В тот же вечер, когда она говорила с царевною Елисаветою, маркиз Ботта обратился к ней с следующею речью: «Ваше императорское высочество упустили случай помочь государыне моей, королеве, несмотря на союз обоих дворов, но так как этому уже нельзя пособить, то я надеюсь, что, с помощью Божией и других наших союзников, мы устроим наши дела. По крайней мере, государыня, позаботьтесь теперь о самой себе. Вы находитесь на краю бездны; ради Бога, спасите себя, императора и вашего супруга».
Все эти увещания не побудили ее сделать ни малейшего шага, чтобы утвердить за собою престол. Неосторожность ее дошла еще дальше. В вечер, предшествовавший революции, супруг ее сказал ей, что он получил новые сведения о поведении царевны Елисаветы, что он тотчас же прикажет расставить на улицах караулы и решился арестовать Лестока. Великая княгиня не дала ему исполнить этого, ответив, что она считала царевну невинною, что когда она говорила с нею об ее совещаниях с де ла Шетарди, последняя не смутилась, очень много плакала и убедила ее.
Ошибки, сделанные партией царевны Елисаветы, были не менее велики. Лесток говорил во многих местах и в присутствии многих лиц о долженствовавшей случиться в скором времени перемене. Прочие участники заговора были не умнее: все люди простые, мало способные сохранить столь важную тайну. Сама царевна делала некоторые вещи, за которые она была бы (арестована?) в царствование императрицы Анны. Она прогуливалась часто по казармам гвардейцев; простые солдаты становились на запятки ее открытых саней и таким образом разъезжали, разговаривая с нею, по улицам Петербурга. Их приходило каждый день по несколько в ее дворец и она старалась казаться популярной во всех случаях. Но Провидение решило, что это дело удастся, поэтому другие по необходимости были ослеплены.
В день революции новая императрица объявила манифестом, что она взошла на отцовский престол, принадлежащий ей, как законной наследнице, и что она приказала арестовать похитителей ее власти. Три дня спустя был обнародован другой манифест, который должен был доказать ее неоспоримое право на престол. В нем было сказано, что так как принцесса Анна и супруг ее не имели никакого права на русский престол, то они будут отправлены со всем семейством в Германию. Их отправили из Петербурга со всеми слугами под конвоем гвардейцев, состоявших под командою генерала Салтыкова (бывшего обер-полицеймейстером при императрице Анне). Они доехали только до Риги, где их арестовали. Сначала их поместили на несколько месяцев в крепость; затем их перевезли в Дюнамюндский форт и, наконец, вместо того, чтобы дозволить им возвратиться в Германию, их привезли обратно в Россию. Место их заточения было часто переменяемо, и великая княгиня умерла в родах в марте 1746 г. Тело ее было перевезено в Петербург и предано земле в монастыре св. Александра Невского.
Неизвестно, где именно содержатся теперь принц Антон Ульрих и юный император; иные говорят, что отец и сын находятся в одном и том же месте, и что молодому принцу дают, по повелению двора, хорошее воспитание; другие утверждают, что царевич Иоанн разлучен с своим отцом и находится в монастыре, где его воспитывают довольно плохо.
По всему, что я сказал о принцессе Анне, будет нетрудно определить ее характер. Она была чрезвычайно капризна, вспыльчива, не любила труда, была нерешительна в мелочах, как и в самых важных делах; она очень походила характером на своего отца, герцога Карла Леопольда Мекленбургского, с тою только разницею, что она не была расположена к жестокости. В год своего регентства она правила с большою кротостью. Она любила делать добро, не умея делать его
Императрица объявила манифестом что она взошла на отцовский престол принадлежавший ей
Чтобы объяснить хорошенько обстоятельства этой революции, надо начать выше.
Царевна Елизавета, хотя и не была совсем довольна во время царствования императрицы Анны, оставалась, однако, спокойной до тех пор, пока не состоялось бракосочетание принца Антона Ульриха с принцессой Анной; тогда она сделала несколько попыток, чтобы образовать свою партию. Все это делалось, однако, в такой тайне, что ничего не обнаружилось при жизни императрицы; но после ее кончины и когда Бирон был арестован, она стала думать об этом серьезнее. Тем не менее первые месяцы после того, как принцесса Анна объявила себя великой княгиней и регентшей, прошли в величайшем согласии между ней и царевной Елизаветой; они посещали друг друга совершенно без церемоний и жили дружно. Это долго не продолжалось; недоброжелатели поселили вскоре раздор между обеими сторонами. Царевна Елизавета сделалась скрытнее, начала посещать великую княгиню только в церемониальные дни или по какому-нибудь случаю, когда ей никак нельзя было избегнуть посещения. К этому присоединилось еще то обстоятельство, что двор хотел принудить ее вступить в брак с принцем Людвигом Брауншвейгским и что ближайшие к ее особе приверженцы сильно убеждали ее освободиться от той зависимости, в которой ее держали.
Ее хирург, Лесток, был в числе приближенных, наиболее горячо убеждавших ее вступить на престол, и маркиз де ла Шетарди, имевший от своего двора приказание возбуждать внутреннее волнение в России, чтобы совершенно отвлечь ее от участия в политике остальной Европы, не преминул взяться за это дело со всевозможным старанием. У царевны не было денег, их понадобилось много для того, чтобы составить партию. Де ла Шетарди снабдил ее таким количеством денег, какое она пожелала. Он имел часто тайные совещания с Лестоком и давал ему хорошие советы, как удачно повести столь важное дело. Затем царевна вступила в переписку со Швецией, и стокгольмский двор предпринял войну, отчасти по соглашению с ней.
В Петербурге царевна начала с того, что подкупила нескольких гвардейцев Преображенского полка. Главным был некто Грюнштейн, из обанкротившегося купца сделавшийся солдатом; он подговорил некоторых других, так что мало-помалу в заговоре оказалось до тридцати гвардейских гренадер.
Граф Остерман, имевший шпионов повсюду, был уведомлен, что царевна Елизавета замышляла что-то против регентства. Лесток, самый ветреный человек в мире и наименее способный сохранить что-либо в тайне, говорил часто в гостиницах, при многих лицах, что в Петербурге случатся в скором времени большие перемены. Министр не преминул сообщить все это великой княгине, которая посмеялась над ним и не поверила ничему, что он говорил по этому предмету. Наконец, эти известия, повторенные несколько раз и сообщенные даже из-за границы, начали несколько беспокоить принцессу Анну. Она поверила, наконец, что ей грозила опасность, но не предприняла ровно ничего, чтобы избежать ее, хотя и могла бы сделать это тем легче, что царевна Елизавета дала ей достаточно времени принять свои меры. Царевна твердо решилась вступить на престол, но вместо того, чтобы поспешить с исполнением, находила постоянно предлог откладывать решительные меры еще на некоторое время. Последним ее решением было не предпринимать ничего до б января (по старому стилю), праздника св. Крещения, когда для всех полков, стоящих в Петербурге, бывает парад на льду реки Невы. Она хотела стать тогда во главе Преображенского полка и обратиться к нему с речью; так как она имела в нем преданных ей людей, то надеялась, что и другие не замедлят присоединиться к ним, и когда весь этот полк объявит себя на ее стороне, то остальные войска не затруднятся последовать за ним.
Этот проект, разумеется, не удался бы или, по крайней мере, вызвал бы большое кровопролитие. К счастью для нее, она была вынуждена ускорить это предприятие; многие причины побудили ее принять окончательное решение.
Во-первых, она узнала, что великая княгиня решила объявить себя императрицей. Все лица, приверженные к царевне Елизавете, советовали ей не дожидаться осуществления этого намерения и представляли, что она встретит тогда больше затруднений и что даже все ее меры могли провалиться.
Во-вторых, по известиям, полученным двором о движении графа Левенгаупта, трем гвардейским батальонам было приказано быть готовыми двинуться к Выборгу для соединения там с армией; многие лица, принимавшие участие в деле царевны, должны были идти с этим отрядом. Они отправились к царевне и сказали ей, что нужно непременно торопиться с исполнением ее замысла, так как лица, наиболее ей преданные, уйдут в поход, а на некоторых других может напасть страх, который заставит их донести обо всем.
И, наконец, неосторожность принцессы Анны, которая говорила царевне о тайных совещаниях этой последней с де ла Шетарди, главным образом ускорила это дело. 4 декабря, в приемный день при дворе, великая княгиня отвела царевну Елизавету в сторону, и сказала ей, что она получила много сведений о ее поведении; что ее хирург имел часто тайные совещания с французским министром и что оба они замышляли опасный заговор против царствующего дома; что великая княгиня не хотела еще верить этому, но если подобные слухи будут продолжаться, то Лестока арестуют, чтобы заставить его сказать правду.
Царевна прекрасно выдержала этот разговор; она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына; что она была слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей присягу; что все эти известия сообщены ее врагами, желавшими сделать ее несчастной; что нога Лестока никогда не бывала в доме маркиза де ла Шетарди (это было совершенно верно, так как оба они избирали всегда особое место для своих свиданий), но что тем не менее великая княгиня вольна арестовать Лестока: этим невинность царевны может еще более обнаружиться. Царевна Елизавета много плакала во время этого свидания и так сумела убедить в своей невинности великую княгиню (которая также проливала слезы), что последняя поверила, что царевна ни в чем не была виновна.
Возвратясь к себе, царевна Елизавета сразу же известила Лестока о своем разговоре с великой княгиней; ее наперсник желал бы в ту же ночь предупредить опасность, грозившую царевне и ему самому, но так как все, принимавшие участие в заговоре, были рассеяны по своим квартирам и их ни о чем не предупредили, то дело было отложено до следующей ночи.
Утром, когда Лесток явился, по обыкновению, к царевне, он подал ей небольшой клочок бумаги, на которой он нарисовал карандашом царевну Елизавету с царским венцом на голове. На обратной стороне она была изображена с покрывалом, а возле нее были колеса и виселицы; при этом он сказал: «Ваше императорское высочество должны избрать: быть ли вам императрицей или отправиться на заточение в монастырь и видеть, как ваши слуги погибают в казнях». Он убеждал ее далее не медлить и последнее решение было принято на следующую ночь.
Лесток не забыл уведомить об этом всех, принадлежавших к их партии. В полночь царевна, сопровождаемая Воронцовым и Лестоком, отправилась в казармы гренадеров Преображенского полка; 30 человек этой роты были в заговоре и собрали до 300 унтер-офицеров и солдат. Царевна объявила им в немногих словах свое намерение и требовала их помощи; все согласились жертвовать собой для нее. Первым их делом было арестовать ночевавшего в казармах гренадерского офицера по имени Гревс, шотландца по происхождению; после этого они присягнули царевне на подданство; она приняла над ними начальство и пошла прямо к Зимнему дворцу; она вошла, без малейшего сопротивления, с частью сопровождавших ее лиц в комнаты, занимаемые караулом, и объявила офицерам причину своего прихода; они не оказали никакого сопротивления и пустили ее действовать. У всех дверей и выходов были поставлены часовые. Лесток и Воронцов вошли с отрядом гренадеров в покои великой княгини и арестовали ее с супругом, детьми и фавориткой, жившей рядом.
Лишь только это дело было окончено, несколько отрядов было послано арестовать фельдмаршала Миниха, его сына, обер-гофмейстера великой княгини, графа Остермана, графа Головкина, графа Левенвольде, обер-гофмаршала двора, барона Менгдена и некоторых других, менее значительных лиц.
Все арестованные были отведены во дворец царевны. Она послала Лестока к фельдмаршалу Ласи предупредить его о том, что она совершила, и объявить, что ему нечего бояться, и приказала немедленно явиться к ней. Сенат и все сколько-нибудь знатные лица империи были также созваны во дворец новой императрицы. На рассвете все войска были собраны около ее дома, где им объявили, что царевна Елизавета вступила на отцовский престол, и привели их к присяге на подданство. Никто не сказал ни слова и все было тихо, как и прежде. В тот же день императрица оставила дворец, в котором она жила до тех пор, и заняла покои в императорском дворце.
Когда совершилась революция герцога Курляндского, все были чрезвычайно рады; на улицах раздавались одни только крики восторга; теперь же было не так: все выглядели грустными и убитыми, каждый боялся за себя или за кого-нибудь из своего семейства, и все начали дышать свободно только по прошествии нескольких дней.
Все, читающие об этом событии, не могут не удивиться ужасным ошибкам, сделанным с обеих сторон.
Если бы великая княгиня не была совершенно ослеплена, то это дело не удалось бы. Я говорил выше, что она получила несколько извещений даже из-за границы; граф Остерман, приказав однажды снести себя к ней, уведомил ее о тайных совещаниях де ла Шетарди с Лестоком; вместо того чтобы отвечать ему на то, что он говорил, она велела показать ему новое платье, заказанное ею для императора.
В тот же вечер, когда она говорила с царевной Елизаветой, маркиз Ботта обратился к ней со следующей речью: «Ваше императорское высочество упустили случай помочь моей государыне, королеве, несмотря на союз обоих дворов, но так как этому уже нельзя пособить, то я надеюсь, что, с помощью Божией и других наших союзников мы устроим наши дела. По крайней мере, государыня, позаботьтесь теперь о самой себе. Вы находитесь на краю бездны; ради Бога, спасите себя, императора и вашего супруга».
Все эти увещания не побудили ее сделать ни малейшего шага, чтобы утвердить за собой престол. Ее неосторожность дошла еще дальше. В вечер, предшествовавший революции, ее супруг сказал ей, что он получил новые сведения о поведении царевны Елизаветы, что он сразу же прикажет расставить на улицах караулы и решился арестовать Лестока. Великая княгиня не дала ему исполнить этого, ответив, что она считает царевну невинной, что когда она говорила с ней о ее совещаниях с де ла Шетарди, последняя не смутилась, очень много плакала и убедила ее.
Ошибки, сделанные партией царевны Елизаветы, были не менее велики. Лесток говорил во многих местах и в присутствии многих лиц о долженствовавшей случиться в скором времени перемене. Прочие участники заговора были не умнее: все люди простые, мало способные сохранить столь важную тайну. Сама царевна делала некоторые вещи, за которые она была бы (арестована?) в царствование императрицы Анны. Она прогуливалась часто по казармам гвардейцев; простые солдаты становились на запятки ее открытых саней и таким образом разъезжали, разговаривая с ней, по улицам Петербурга. Их приходило каждый день по нескольку в ее дворец и она старалась казаться популярной во всех случаях. Но Провидение решило, что это дело удастся, поэтому другие по необходимости были ослеплены.
В день революции новая императрица объявила манифестом, что она взошла на отцовский престол, принадлежавший ей, как законной наследнице, и что она приказала арестовать похитителей ее власти. Три дня спустя был обнародован другой манифест, который должен был доказать ее неоспоримое право на престол. В нем было сказано, что так как принцесса Анна и ее супруг не имели никакого права на русский престол, то они будут отправлены со всем семейством в Германию. Их отправили из Петербурга со всеми слугами под конвоем гвардейцев, состоявших под командой генерала Салтыкова (бывшего обер-полицмейстером при императрице Анне). Они доехали только до Риги, где их арестовали. Сначала их поместили на несколько месяцев в крепость; затем перевезли в Дюнамюндский форт и, наконец, вместо того, чтобы дозволить им возвратиться в Германию, их привезли обратно в Россию. Место их заточения часто менялось, и великая княгиня умерла в родах в марте 1746 г. Тело ее было перевезено в Петербург и предано земле в монастыре св. Александра Невского.
Неизвестно, где именно содержатся теперь принц Антон Ульрих и юный император; иные говорят, что отец и сын находятся в одном и том же месте и что молодому принцу дают, по повелению двора, хорошее воспитание; другие утверждают, что царевич Иоанн разлучен со своим отцом и находится в монастыре, где его воспитывают довольно плохо.
По всему, что я сказал о принцессе Анне, будет нетрудно определить ее характер. Она была чрезвычайно капризна, вспыльчива, не любила трудиться, была нерешительна в мелочах, как и в самых важных делах; она очень походила характером на своего отца, герцога Карла Леопольда Мекленбургского, с той только разницей, что она не была расположена к жестокости. В год своего регентства она правила с большой кротостью. Она любила делать добро, не умея делать его кстати. Ее фаворитка пользовалась ее полным доверием и распоряжалась ее образом жизни по своему усмотрению. Своих министров и умных людей она вовсе не слушала, наконец, она не имела ни одного качества, необходимого для управления столь большой империей в смутное время. У нее был всегда грустный и унылый вид, что могло быть следствием тех огорчений, которые она испытала со стороны герцога Курляндского во время царствования императрицы Анны. Впрочем, она была очень хороша собой, прекрасно сложена и стройна; она свободно говорила на нескольких языках.
Что же касается принца, ее супруга, то он обладает наилучшим сердцем и прекраснейшим характером в мире, соединенными с редким мужеством и неустрашимостью в военном деле, но он чрезмерно робок и застенчив в государственных делах. Он приехал слишком молодым в Россию, где перенес тысячу огорчений со стороны герцога Курляндского, который не любил его и часто обращался с ним весьма жестко. Эта ненависть герцога происходила потому, что он считал его единственным препятствием к возвышению своего дома, так как, сделавшись герцогом Курляндским, он возымел намерение выдать принцессу Анну за своего старшего сына и возвести этим браком свое потомство на русский престол; но, несмотря на свое влияние на императрицу, он никогда не мог убедить ее согласиться на это.
Принц Людвиг Брауншвейгский, бывший еще в Петербурге во время революции и имевший помещение во дворце, был также арестован в своей комнате; спустя несколько часов после того, как императрица велела снять караул, ему назначили другую квартиру в доме, подаренном великой княгиней своей фаворитке, который отстраивался все предыдущее лето и всю осень; отапливать в нем можно было только одну комнату. Принц должен был ее занять и довольствоваться ею; он оставался в Петербурге до марта месяца, а потом возвратился в Германию.
К нему, как бы для почета, был приставлен караул, но, в сущности, более для того, чтобы наблюдать за всеми, кто будет приходить к нему. Его посещали одни иностранные министры.
Прежде чем я стану говорить о прочих событиях, случившихся после революции, скажу сначала о том, что касается арестованных вельмож.
Была назначена комиссия, составленная из нескольких сенатов и других русских сановников, которые должны были допросить их и произвести над ними суд. Они были обвинены во многих преступлениях. Графа Остермана обвинили, между прочим, в том, что он способствовал своими интригами избранию императрицы Анны и уничтожил завещания императрицы Екатерины, и т. д. Графа Миниха обвинили в том, будто он сказал солдатам, арестовывая герцога Курляндского, что это делалось с целью возвести на престол царевну Елизавету; тот и другой легко могли бы доказать, что эти обвинения были ложными, но их оправдания не были приняты.
В сущности, преступление всех арестованных лиц состояло в том, что они не понравились новой императрице и слишком хорошо служили императрице Анне. Сверх того, Елизавета обещала тем, которые помогли ей взойти на престол, что она освободит их от притеснения иностранцев, поэтому пришлось осудить тех, кто занимал высшие должности.
Двор издал по этому случаю манифест, где были перечислены все преступления, в которых они обвинялись.
Миних, Остерман и Левенвольде перенесли свое несчастье с твердостью; не так было с другими. Все поместья сосланных, за исключением тех, которые их жены принесли за собой в приданое, были конфискованы в пользу двора, который наградил ими других лиц. Жены осужденных получили позволение поселиться в своих поместьях и не следовать за мужьями в ссылку, но ни одна из них не захотела воспользоваться этой милостью.
Некоторые из этих вельмож играли столь видную роль в свете, что я считаю нужным сказать несколько слов об их хороших и дурных качествах, присовокупив к этому перечень главнейших событий в их жизни.
Граф Миних представлял собой совершенную противоположность хороших и дурных качеств: то он был вежлив и человеколюбив, то груб и жесток; ничего не было ему легче, как завладеть сердцем людей, которые имели с ним дело; но минуту спустя он оскорблял их до того, что они были вынуждены ненавидеть В иных случаях он был щедр, в других скуп до невероятности. Это был самый гордый человек в мире, однако он делал иногда подлости; гордость была главным его пороком, его честолюбие не имело пределов, и чтобы удовлетворять его, он жертвовал всем. Он ставил выше всего свои собственные выгоды; самыми лучшими для него людьми были те, кто ловко умел льстить ему.
Это был гениальный человек; один из лучших инженеров своего века, отличный полководец, но нередко слишком отважный в своих предприятиях. Он не знал, что такое невозможность; так как все, что он ни предпринимал самого трудного, ему удавалось, то никакое препятствие не могло устрашить его.
Он не имел способностей для того, чтобы быть министром, однако не упустил ни одного случая, чтобы попасть в члены министерства, и это было причиной его несчастья. Чтобы выведать у него самые тайные дела, стоило только рассердить его противоречием.
Он родом из Ольденбурга, происходит из хорошей дворянской фамилии; отец его, дав ему хорошее образование, определил его в 1700 г. капитаном пехоты в гессенскую службу. Он совершил с гессенскими войсками все походы во Фландрию и Италию во время войны за наследство до сражения при Денене, когда был взят в плен. Король шведский, Фридрих I, при котором он был несколько лет адъютантом, всегда дорожил им.
После заключения мира с Францией в 1713 г. он поступил на службу к польскому королю Августу II, в чине подполковника, получил некоторое время спустя чин генерал-майора и командовал польской гвардией. Король, ценя его достоинства, очень любил его; но граф Флемминг, не желавший делить расположение своего государя с кем бы то ни было, стал ревновать его и до того преследовал, что он был вынужден выйти в отставку в 1718 г. Он намеревался поступить па шведскую службу, но так как Карл XII был убит в Норвегии, то он поступил на службу России Он заслужил вскоре расположение Петра I, которое и сохранил до смерти этого государя.
В царствование Екатерины и Петра II он перенес много огорчений от князя Меньшикова, не любившего его; падение этого любимца поправило его дела.
Привыкнув всю жизнь к труду, он не может оставаться праздным и в ссылке: он написал и представил сенату несколько проектов, касающихся улучшения провинций России, и забавляется обучением геометрии и инженерной науке нескольких детей, которых ему поручили. Губернаторы сибирских городов боятся его так, как если бы он был генерал-губернатором края. Узнав о каком-нибудь их злоупотреблении, он сразу же пишет им, грозя донести о том двору, и т. п. В заключение, о нем можно сказать, что в нем нет ничего мелочного: хорошие и дурные его качества одинаково велики.
Единственный его сын разделил его опалу; комиссия употребляла всевозможные усилия, чтобы найти за ним какой-нибудь проступок, достойный наказания; но это не удалось, он был оправдан своими судьями; однако ему все-таки не хотели предоставить полную свободу; в приговоре было сказано, что так как он знал, что принцесса Анна намеревалась объявить себя императрицей, то он должен возвратить орден Александра Невского, что лифляндские поместья его будут обменены на другие в России; впрочем, и это было изменено: двор назначил ему ежегодную пенсию в 1 200 рублей, и ему было приказано поселиться в Вологде, городе, отстоящем от Москвы приблизительно на 80 французских лье, и где поселилось несколько голландских купцов.
Он не имел блистательных качеств своего отца, но унаследовал многие его хорошие свойства, не получив ни одного из дурных. Он имеет ровный и основательный ум, чрезвычайно честен и обладает всеми способностями, необходимыми для того, чтобы блистать в министерстве. Он и получил бы там должность, если бы продлилось правление принцессы Анны. Он начал службу в качестве секретаря и кавалера посольства при конгрессе в Суассоке; возвратившись в Петербург, он получил при дворе место камер-юнкера императрицы; несколько лет спустя был пожалован в камергеры, и когда великая княгиня приняла звание императрицы, то без раздумий назначила его обер-гофмейстером своего двора.
Граф Остерман был, бесспорно, одним из величайших министров своего времени. Он знал основательно интересы всех европейских дворов, был очень понятлив, умен, чрезвычайно трудолюбив, весьма ловок и неподкупной честности: он не принял никогда ни малейшего подарка от иностранных дворов, только по приказанию своего правительства. С другой стороны, он был чрезвычайно недоверчив, заходя в подозрениях часто слишком далеко. Он не мог терпеть никого ни выше себя, ни равного себе, разве когда это лицо было гораздо ниже его по уму. Никогда товарищи его по кабинету не были довольны им, он хотел руководить всеми делами, а остальные должны были разделять его мнения и подписывать.
Своей политикой и своими притворными, случавшимися, кстати, болезнями он удержался в продолжение шести различных царствований. Он говорил так странно, что немногие могли похвастать, что понимают его хорошо; после двухчасовых бесед, которые он часто имел с иностранными министрами, последние, выходя из своего кабинета, так же мало знали, на что он решился, как в ту минуту, когда они туда входили. Все, что он говорил и писал, можно было понимать двояким образом. Он был до крайности скрытен, никогда не смотрел никому в лицо и часто был тронут до слез, если считал их нужными.
Домашний образ его жизни был чрезвычайно странен; он был еще неопрятнее русских и поляков; комнаты его были очень плохо меблированы, а слуги одеты обыкновенно, как нищие. Серебряная посуда, которую он употреблял ежедневно, была до того грязна, что походила на свинцовую, а кушанья подавались хорошие только в дни торжественных обедов. Его одежда в последние годы, когда он выходил из кабинета только к столу, была до того грязна, что возбуждала отвращение.
Он был родом из Вестфалии, сын пастора, прибыл в Россию около 1704 года и начал службу на галерах в чине мичмана; некоторое время спустя он был произведен в лейтенанты, и адмирал Крейц взял его к себе в качестве секретаря.
Петр I, находясь однажды на адмиральском корабле, хотел отправить несколько депеш и спросил Крейца: нет ли у него какого-нибудь надежного человека, который мог бы написать их. Адмирал представил ему Остермана, который так хорошо изучил русский язык, что говорил на нем, как на своем природном. Император, заметив его ум, взял Остермана к себе, сделав его своим частным секретарем и доверенным лицом. Он употреблял его в самых важных делах и возвысил в несколько лет до первых должностей империи; в 1723 г., после падения барона Шафирова, он был назначен вице-канцлером и сохранил это звание до той революции, когда герцог Курляндский был арестован, а Остерман назначен генерал-адмиралом.
Граф Левенвольде был лифляндцем, происходившим от одной из первых фамилий этого края. Он поступил камер-юнкером на службу к императрице Екатерине еще при жизни Петра I; после смерти императора был пожалован в камергеры; так как он был молод, хорош собой и статен, императрица была неограниченно благосклонна к нему. Императрица Анна назначила его обер-гофмаршалом двора и инспектором доходов по соляной части. За ним не знали никаких качеств, кроме хороших. Он был создан для занимаемого им места, имел кроткий нрав, был чрезвычайно вежлив и располагал к себе всех своим приветливым обращением. В царствование Анны он не вмешивался ни в какое дело, прямо не касавшееся его должности, и был бы счастлив, если бы так держал себя и во время правительницы; но он был увлечен против своей воли. Принцесса спрашивала его о многих предметах, о которых он был вынужден высказать свои мнения, и так как он придерживался также мнения, чтобы великая княгиня объявила себя императрицей, то он разделил ее падение и окончил, по всей вероятности, жизнь в изгнании. Главным его недостатком была страсть к игре; это разорило его, так как он проигрывал часто очень большие суммы в один вечер. Я не скажу ничего об остальных несчастных; они были слишком мало известны остальному миру.
Манштейн Кристоф Герман. Записки о России. 1998. Ростов-на-Дону. Феникс.